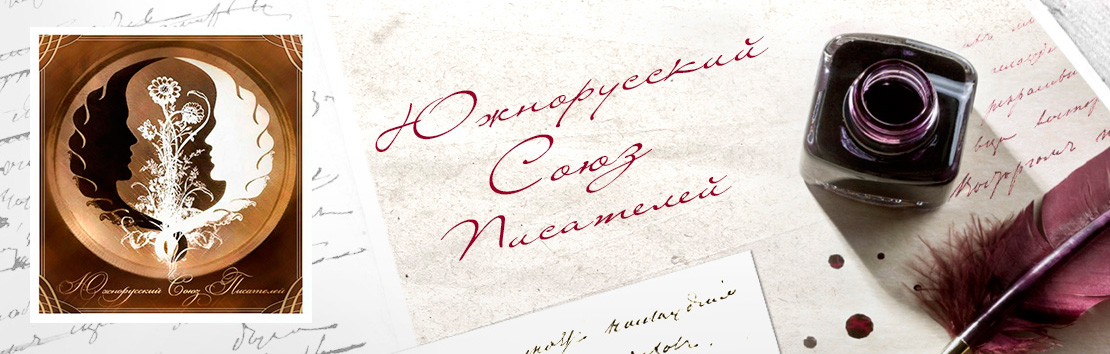АЛЕКСАНДР РУДНЕВ
И СНОВА О СЁСТРАХ ЦВЕТАЕВЫХ
(Елена Титова. Цветаевы. Поэзия. Вологда / Сборник статей. М., «Серебряные нити», 2024 – 246 с.)
В книге литературоведа, кандидата филологических наук Елены Витальевны Титовой – три части. В первом разделе представлены статьи, освещающие различные аспекты и проблемы творчества М.И. Цветаевой (1892-1941): автор пишет о различных влияниях, которые та испытывала на определённых этапах творческого пути, о её связях с современниками. Но главным образом в поле зрения исследовательницы оказываются наиболее важные аспекты литературно-критической деятельности великой поэтессы. Первый критический опыт совсем ещё юной М. Цветаевой относится к 1910 году (при её жизни эта статья не была опубликована) – «Волшебство в стихах Брюсова». Свою первую поэтическую книгу под заглавием «Вечерний альбом» она отсылает именно ему, признанному мэтру, и получает доброжелательный отзыв. В это время М. Цветаева «уже старалась преодолеть собственное ученичество и инерцию подражания» (с. 5). Брюсов-поэт, как считают некоторые литературоведы, оказал на неё существенное влияние, однако скорее более явственно влияние К. Бальмонта, чем В. Брюсова. В поэзии М. Цветаевой почти сразу проявилось её индивидуальное лицо, и это заметил Брюсов, уловив в ней непосредственную связь с фактами самой жизни, иными словами, большое личностное и, быть может, чисто женское начало поэзии Цветаевой – и, возможно, неслучайно она отказалась от публикации этой статьи…
М. Цветаева как поэт развивалась очень быстро и стремительно. Столь же активно, как представляется автору книги, происходила и её эволюция и как литературного критика – автора статей «Световой ливень», «Поэт и время», «Искусство при свете совести», «Поэты с историей и поэты без истории» и др. В них определённо сквозной является та мысль, что «критик, оценивающий лирическую поэзию, должен стремиться к обозначению вершин, достигнутых поэтом, и убеждать читателя в достоинствах тех или иных поэтических произведений, и не через формальный их разбор <…>, а через их творческое освещение, способствующее обновлённому переживанию» (с. 13). Таким образом, Цветаева максимально приближает литературную критику к сфере художественного творчества. И опять же, в своих критических оценках Цветаева выступает в первую очередь как поэт, но одновременно и как исследователь, подходящий, с одной стороны, к метафорическому, с другой – к наиболее истинному истолкованию чужих стихов – будь то Брюсов или Пастернак, или кто угодно.
Рассматривая эволюцию поэтического творчества М. Цветаевой в статье «Эволюция идейно-художественных принципов в лирических циклах Цветаевой: от позиции „я и мир“ к позиции „я вне мира“», Е.В. Титова высказывает вполне справедливое, с нашей точки зрения, мнение, что выделение двух этапов творческого развития Цветаевой – российского, дореволюционного и эмигрантского в достаточной мере условно, поскольку «независимо от жанрового и родового статуса произведения М. Цветаевой» скрепляются прочной сеткой автореминсценций и автоцитат на всех уровнях (с. 17) – и так происходило, по мнению исследовательницы, от первой книги «Вечерний альбом» до самых последних стихов, написанных в 1940-41 годах, совсем незадолго до трагического конца её жизни. И наиболее важную особенность всего поэтического творчества Цветаевой исследовательница усматривает в цикличности и закономерной эволюции – так, «произведения, написанные в 1915 году, объясняют созданное ею в 1925 году» (с. 18).
Почти все стихи Цветаевой имеют выраженную установку на конкретного адресата, но в то же время для них характерно «обобщение и типизация, сближающие лирику с эпосом» (с. 18). Поэтому все цветаевские стихотворные циклы представляют собой своего рода художественное единство, в котором основные мотивы – неполнота или безответность любви, которая оборачивается потерями и утратами, и стремление к отвлечённому, потустороннему миру, который оказывается более постоянен и устойчив.
Именно таковы почти все книги Цветаевой, изданные как в России, так и за рубежом – они характеризуют авторское стремление сделать лирическое движение непрерывным, интенсивным и целостным.
Иногда, отмечает Е.В. Титова, Цветаева создавала свой вымышленный, часто литературный мир, – например, как в цикле «Дон-Жуан», где её героиня отрешается от реальной жизни и погружается в атмосферу «игры и лицедейства» (с. 21). Всё это позволяет Е.В. Титовой прийти к выводу о том, что в поэтическом творчестве Цветаевой существуют, условно говоря, как бы три модели: лиро-драматическая и лиро-эпическая, а также синтетическая, в которой лирическая героиня занимает активную позицию и требует полного соответствия идеалу, хотя в этом заключена своего рода дисгармония и, таким образом, вырисовывается ярчайший человеческий документ – трагической женской судьбы и судьбы поэта.
В статье «Двух голосов перекличка: этические позиции Цветаевой и Лермонтова» Е.В. Титова особо подчёркивает, что Цветаевой всегда был близок душевный строй Лермонтова и в её стихах, письмах, статьях имя Лермонтова фигурирует по разным поводам.
Первое цветаевское обращение к Лермонтову относится к 1910 году, в письме к В.Я. Брюсову, а много позднее, в 1937 году, Цветаева перевела на французский язык хрестоматийно известное стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» и несколько других.
Некоторые мотивы поэзии Цветаевой, например, в стихотворении «В Кремле», написанном от мужского имени, по мнению исследовательницы, во многом восходят к поэмам Лермонтова «Мцыри» и «Демон». В стихотворении «Последнее слово» мы находим такую характеристику лирического адресата: «За счастье жалкое земли / ты не отдашь своих страданий», явно содержащую отсылку к лермонтовскому «Демону». И этот ряд реминисценций может быть продолжен.
Однако наибольшее влияние Лермонтов на Цветаеву оказал, по мнению исследовательницы, в период 1914-16 годов на фоне впечатлений от празднования лермонтовского 100-летнего юбилея, правда, скомканного событиями Первой мировой войны, а также, возможно, под влиянием статьи Д.С. Мережковского «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (в статье Е.В. Титовой название не совсем точное – «Лермонтов как поэт сверхчеловечества»). Эти отзвуки можно усмотреть в поэме Цветаевой «Чародей» (1914 год), в поэтических циклах «Крысолов» и «Поэт». Здесь начала, на которых зиждется мироздание – добро и зло, божественное и дьявольское, осознаются Цветаевой как «реальные и неуничтожимые» (с. 30). Отсюда и поэтическое осмысление типично лермонтовской вертикали: земля – небо. Показательны в этом отношении стихотворения «Молитва» и «В раю», которые явно содержат отсылку, как считает Е.В. Титова, к стихотворению Лермонтова «Любовь мертвеца». Наибольшую же близость поэтических миров Лермонтова и Цветаевой исследовательница усматривает в том, что у них «путь к свету возможен только через тьму» (с. 33) – отсюда и мысль о том, что каждый поэт изначально обречён на страдания.
В статье «Концепция детской литературы в эмигрантском творчестве М. Цветаевой» утверждается, что основное зерно суждений М. Цветаевой заключается в том, что детская литература в определённом смысле ничем не отличается от взрослой. Поэтому Цветаева полагала, что дети лет семи от роду могут понять и «Евгения Онегина», и «Мцыри» ничуть не хуже, чем это понимается в двадцатилетнем, скажем, возрасте. В высказываниях Цветаевой на эту тему в ранний период, в особенности, звучит убеждённость «в необходимости человеческого и романтического начал в детской литературе, авантюрных сюжетов и волшебства» (с. 36). В эмигрантские годы Цветаева несколько пересмотрела свою позицию: она уже не отрицала необходимости взрослого контроля над детским чтением, тщательного отбора книг, предназначенных для детей.
Но в то же время она требовала от детских писателей прямого обращения к детям. (Статьи «О новой русской детской книге», «Сказка матери», «Мать и музыка», «Чёрт», «Мой Пушкин», «Детям» и др.). А в советской литературе таковыми являлись прежде всего стихи С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, отчасти В. Маяковского, хорошо известные Цветаевой.
Одной из главных ипостасей детского чтения как проблемы Цветаева полагала воспитание в детях доброты, сострадания и сопереживания. И, разумеется, произведения для детей должны быть сюжетны, динамичны, безупречны по своим художественным качествам. Кроме того, детские книги должны быть хорошо иллюстрированы.
Тема провинции в творческом сознании и жизненном опыте Цветаевой на материале в данном случае города Александрова – в центре внимания статьи «К.Н. Батюшков и провинциальное пространство в восприятии М.И. Цветаевой». Здесь Е.В. Титова замечает, что «угадываемая через Батюшкова Вологда соединились в представлении Цветаевой в мечту о небольшом городе, который был идеален для творческой личности, избегающий громкой известности, шума времени и суеты» (с. 40). Всё это она соединяет с интересом к судьбе поэта, жившего на свете задолго до неё. Поэтому, по мнению исследовательницы, эта мечта во многом обусловила и начальные строки «Поэмы заставы»: «А покамест пустыня славы / Не засыплет мои уста, / Буду петь мосты и заставы, / Буду петь простые места». Здесь проступают уже черты и Вологды как некоего обобщённого провинциального города, но в самой Вологде Цветаева никогда не бывала и если и представляла её себе, то чисто умозрительно.
В статье «Варлам Шаламов о Марине Цветаевой» рассматриваются во многом схожие судьбы обоих писателей. Е.В. Титова отмечает, что стихи Цветаевой (к примеру, «Сон Стеньки Разина»), стали известны Шаламову во время его тюремных заключений от одного из сокамерников – некого радиотехника Соколова, арестованного по делу розенкрейцеров – вспомним, что по этому же делу была арестована в 1937 году и сестра М. Цветаевой Анастасия Ивановна, о которой речь впереди. Более того, в стихотворном наследии Шаламова обнаруживается своеобразный цветаевский триптих, состоящий из произведений: «Мне грустно тебе называть имена…», «Ты молча смотришь на меня…», «Цветной платок, что сбился набок…» – эти стихи Шаламова представляют собой своего рода посмертные обращения к Марине Цветаевой, в них говорится о её страшной гибели и о жертвенной природе её поэтического дара.
Об этом идёт речь в стихотворении В. Шаламова «Наедине со смертью», где основной становится тема насильственного и преждевременного ухода поэтов из жизни – Пушкина, Лермонтова, Есенина, Н. Гумилёва, В. Нарбута и в особенности О. Мандельштама. Гибель поэта – это, по Шаламову, неизбежная расплата за дар свободы, и в этом смысле шаламовские стихи, полагает исследовательница, перекликаются с цветаевской «Поэмой Конца», что было отмечено Б. Пастернаком.
Другие стихи цветаевского цикла у Шаламова также связаны с темой гибели героини, которая была как бы заложена в ней с самого начала. Столь же интересно рассматривает Е.В. Титова трансформацию образа Марины Цветаевой в поэзии Леонида Губанова и в прозе Геннадия Шпаликова. На основе проведённого ею анализа Е.В. Титова приходит к выводу, что константы образа Цветаевой в творчестве Губанова и Шпаликова связаны преимущественно с осмыслением трагического финала её жизни, а также с её творчеством в целом. Оба поэта анализируют позицию Цветаевой по отношению к несвободе и суетности земного существования, к вечному стремлению к высотам духа и познания. А главной составляющей роста Цветаевой, Шпаликова и Губанова, и вообще лучших поэтов второй половины XX века (они, как известно, не были современниками Цветаевой) названы: «подвижничество в искусстве слова, верность всему вопреки, невозможность жизни во лжи <…>, неустанность творческих поисков и интенсивность художественного развития» (с. 74).
Поэтому Губанов и Шпаликов – не подражатели Цветаевой, а авторы, осознавшие, прежде всего, духовную связь с ней и усвоившие её этико-философское понимание человека и поэзии, продолжившие во многом трагедийную линию её жизни и судьбы. Они опередили своё время, но до сих пор не стали широко известными, отчасти даже для специалистов. Поэтому их надо, убеждена исследовательница, изучать, издавать в полном объёме, как и Цветаеву, – они во многом оказываются конгениальными ей.
В статье «Исторические факты и их художественное осмысление в последних поэмах Цветаевой» Е.В. Титова утверждает, что последние завершённые поэмы Цветаевой – «Красный бычок», «Перекоп», «Поэма о Царской семье» – складывают и определяют цветаевскую концепцию истории. Несомненно, полагает автор, эти поэмы несут в себе следы влияния книги О. Мандельштама «Шум времени», поэм Б. Пастернака «Высокая болезнь», «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот пятый год».
В условиях эмиграции Цветаева воплотила в этих произведениях осмысление фактов и событий революции и Гражданской войны. Также важными литературными впечатлениями и отчасти источниками их следует обозначить и произведения С.Я. Эфрона «О добровольчестве» и «Автобиография. Записки добровольца».
По мнению Цветаевой, как это выразилось в её художественной концепции, люди, верные долгу спасения и защиты отечества, носители благородной идеи русского всеединства достойны восхищения вне зависимости от того, <…> чем эта идея обернулась» (с. 79). Цветаева руководствовалась естественным чувством справедливости, оставаясь верной своему общественно-эстетическому кредо, ярко выраженному в стихах цикла «Лебединый стан»: поэт всегда с теми, кто страдает, с жертвами, а не с палачами.
Обращаясь к теме расстрела царской семьи в 1918 году, Цветаева обнаруживает интерес и к тому, кто окружал императорскую семью на её последнем трагическом пути, а также упоминает и других близких к ней персонажей – таких, например, как Г. Распутин и А. Вырубова. Однако об этом можно говорить только в порядке предположения, так как полностью поэма в итоге до нас не дошла. Основной текст произведения и черновики не найдены. Столь же исторически достоверной является поэма «Красный бычок». И в этой поэме оказалось в органическом соединении легендарное и историческое начало, в ней утверждаются те законы человеческой жизни, которые отрицают любую идеологию и политику, но создают грандиозный образ Истории, ставшей судьбой, высшим проявлением настоящей поэзии.
Вторая часть книги посвящена связям семьи Цветаевых в Вологодском крае. Здесь сравнительно с первой частью во многом главенствует краеведческий элемент и биографические факты, в особенности связанные с младшей сестрой М.И. Цветаевой, с Анастасией Ивановной Цветаевой (1894-1993), хотя сама исследовательница оговаривается в связи с этим, что краеведческие факты являются в основном лишь внешними и далеко не всегда самыми значительными.
Как уже было нами сказано, М.И. Цветаева никогда в Вологде и Вологодский области не бывала, но могла слышать об этом городе, например, от философа Н.А. Бердяева (1877-1948) и писателя А.М. Ремизова (1877-1958), которых хорошо знала. Оба они отбывали в Вологде ссылку в дореволюционное время. А.М. Ремизов, в котором Цветаева особенно ценила «живую сокровищницу души и речи», в Париже был крёстным отцом сына М. Цветаевой Георгия в 1925 году. Тень поэта К.Н. Батюшкова, долгие годы жившего и умершего в Вологде, в сознании Цветаевой соединилась с образами реальных близких людей, – Сергея, его брата Петра Эфрона, а также с литературными героями – байроновским Чайльд-Гарольдом и Одиссеем. В своё время Цветаева обратилась к созданию стихотворений, в которых воссоздавались иные культурные пространства и эпохи: Древняя Русь – в книге «Вёрсты», сказочные персонажи в поэмах «Царь-Девица» и «Молодец». Цикл театральных поэтических произведений «Романтика» посвящён итальянским и французским авантюристам восемнадцатого века.
Как нами уже говорилось, Вологда в сознании Цветаевой ассоциировалась с неким уютным провинциальным городом, идеальным для творческого уединения. И в этом смысле, в этом понимании, ей очень помогал Батюшков, которого она считала поэтически уникальным. И их судьбы, по мнению Е.В. Титовой, оказались чем-то похожими: эмигрантка Марина Цветаева выпала из советской литературы, как Батюшков, покинувший навсегда столичный Санкт-Петербург и заболевший неизлечимой душевной болезнью, а затем исчезнувший навсегда для своих друзей и собратьев. Их могилы определены приблизительно, а тома Батюшкова и Цветаевой вышли одновременно в большой серии «Библиотеки поэта» (на последнее сближение имён обратил внимание И.А. Бродский). Однако нам представляется, что этим фактам и чисто случайным совпадениям автор книги придаёт несколько преувеличенное значение.
Город Великий Устюг интересен в связи с данной темой в том смысле, что здесь в 1924 году, когда Цветаеву в СССР уже не печатали, вышел сборник «Московские поэты», где появилось два её стихотворения, посвящённые Б. Пастернаку, о чём ни она сама, ни её дочь А.С. Эфрон, по всей видимости, никогда не узнали. Как предполагает Е.В. Титова, первой об этой книге и публикации могла узнать Анастасия Ивановна Цветаева, причём от известного литератора И.С. Рукавишникова, с которым она близко общалась в 1920-х годах.
С Вологдой оказался опосредованным образом связан и роман А.И. Цветаевой «Amor», над которым она работала, живя на поселении в Печаткино (тогда бывшем поселке внутри Сокола) – в 40 километрах от Вологды. Судьба сына А.И. Цветаевой Андрея Борисовича Трухачёва (1912-1993) тоже оказалась связанной с Вологдой, где в Сокольском районе (в том же Печаткине), он, уже обзаведшийся семьёй, был сюда командирован для строительства заводских цехов и жилья. Здесь родилась его старшая дочь Маргарита Трухачёва. Сюда в 1947 году к нему приехала Анастасия Ивановна и здесь была арестована (как «повторник») снова и в течение месяца находилась в вологодской тюрьме, а затем была отправлена на место вечной ссылки – в Новосибирскую область. В Печаткино на улице Фрунзе сохранился дом, в котором в 1947-1949 годах жила А.И. Цветаева и семья её сына. Кроме того, в Вологодской областной научной библиотеке хранятся книги И.В. и Д.В. Цветаевых – отца и дяди М.И. и А.И. Цветаевых. В статье «Вологда в судьбе А.И. Цветаевой: факты и версии», осмысливая значение и место А.И. Цветаевой в истории литературы ХХ века, Е.В. Титова делает, на наш взгляд, очень ценное замечание по поводу того, что «не претендовавшая на особое положение, признававшая свой дар более скромным, чем талант своей сестры М.И. Цветаевой, А.И. Цветаева в своём творческом наследии предстаёт всё же как самостоятельное, уникальное, а потому достойное изучения явление русской автобиографический прозы» (с. 115). Всеми, во всяком случае просвещённым большинством, уже бесспорно признано, что А.И. Цветаева – классик русской мемуарной прозы ХХ века, но изучение её наследия по-настоящему только начинается. Важнейшим шагом в этом отношении было проведение международной конференции в Доме-музее М. Цветаевой в Москве под названием «Анастасия Ивановна: жизненный путь и творческое наследие» (27 сентября 2009 года). В ряде выступлений подчёркивалось органическое сочетание литературных материй и религиозной веры в литературном наследии А.И. Цветаевой.
А в Вологде А.И. Цветаева впервые побывала, по всей видимости, летом 1936 года, что подтверждают материалы её следственного дела. В 1948 году в Вологде её лечила офтальмолог Е.В. Александрович, с которой она и в дальнейшем поддерживала эпистолярное общение. Во второй раздел книги вошли тексты, статьи краеведческого и музееведческого характера – «Вологодские факты в судьбах Цветаевых», «По Цветаевским местам Вологды», «Литературные тексты в музейном комплексе», «„Цветаевский дом“ в Соколе Вологодской области: проблемы, задачи и способы включения в экспозиции и экскурсии», «Флоропоэтика в ландшафтном дизайне на музейной территории у Цветаевского дома в городе Соколе Вологодской области: проблемы и перспективы», а также рецензия на книгу А.И. Цветаевой «Букет полевых цветов».
Но нельзя не отметить, что автору не всегда удаётся соблюсти баланс между литературоведеньем и литературным краеведеньем, но что поделать – таковы были задачи данного всё же нетривиального издания. Встречаются иногда и тематические повторы.
Что касается 3-ей, заключительной части книги, то она посвящена – по начальным статьям и по заключительной – лирике двух очень разных, но объединенных вологодским контекстом поэтов – Ольги Фокиной, Алексея Шадринова. Мемуарно-биографическая преамбула соотносит с цветаевской темой первое имя. В этой части книги опубликованы также материалы о литературно-критической деятельности Николая Рубцова, представлены обзоры поэзии и интерпретации стихотворений современных вологодских авторов.
Таким образом, читатель получает очень полезную и познавательную книгу о жизни и творчестве одного из крупнейших поэтов ХХ века, о её родных и близких, друзьях и знакомых, о связях с Вологдой обеих сестёр Цветаевых. Издание не может, без сомнения, оставить равнодушными сколько-нибудь культурных читателей, кому интересна и дорога во многом трагическая история культуры ушедшего ХХ столетия, трагические судьбы отдельных персоналий этой очень большой эпохи, полной исторических катаклизмов. И если Марина Цветаева ушла из жизни много лет тому назад, то Анастасия Цветаева, как известно, была ещё недавно живой и здравствующей, даже действующим литератором, её многие застали и знали лично…
Жаль только, что книга вышла столь малым тиражом (100 экз.), как оно, к сожалению, сейчас принято, и для многих читателей останется недоступной, но – O tempora, o mores! (О, времена, о нравы! – лат.). Книга эта, несомненно, ценный вклад в научное цветаеведение, которое давно уже громко, полногласно заявило о себе.
Оставить комментарий
Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены